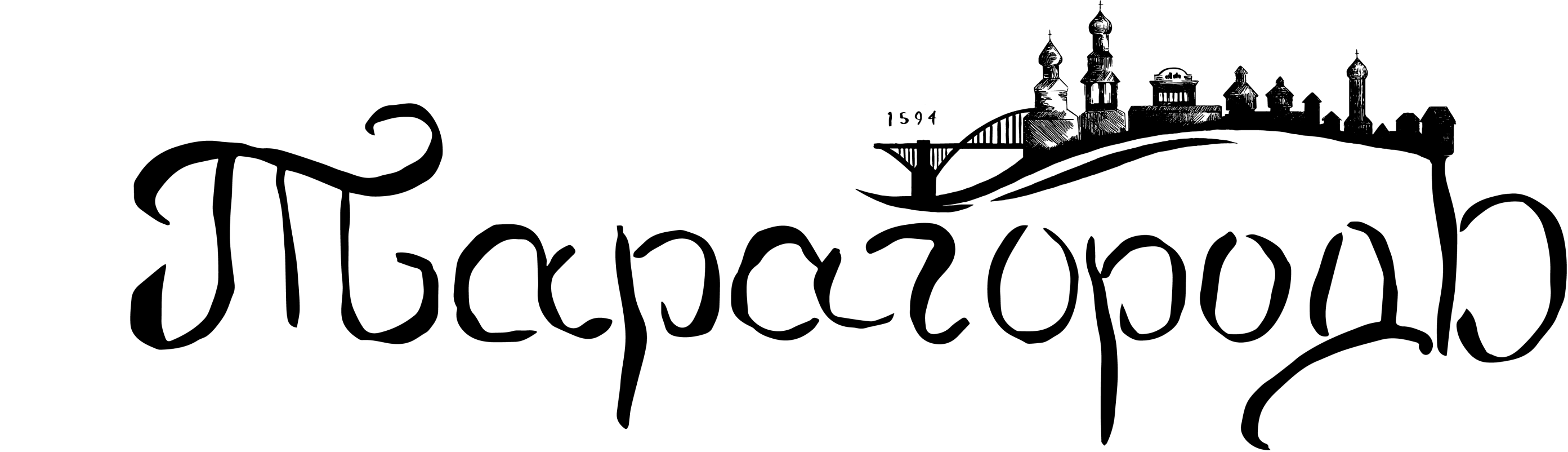Александр Тихонов
У ВЕКА БУРНОГО В ДОЛГУ Поэтическая судьба Леонида Чашечникова
Часть 2
Высокие звёзды
Леониду Чашечникову довелось многое повидать на своём веку. Морские «кружева прибоя», цветущую степь... Однако, начав писать о чудесах окружающего мира, он неизменно оговаривался, что любые красоты сравнивает с родной Сибирью. Он жил и подпитывался не проходящей ностальгией по невозвратной юности, по сибирской тайге и дому. С годами поэта всё чаще тянуло «Шагать дорогою, которой \ Шагал за возом прадед». Он стремился уйти этой дорогой подальше от всегдашней суеты больших городов, однако, «обречен любить и видеть \ Глубинку ту из толчеи». Память о доме и глубинной, тихой России – его якорь в море смут «в час, когда закрутит лихо». Поэт чувствовал, как менялась Россия. Споры суетливого, циничного образа жизни проникали в быт горожан и селян. Тихой Россия уже не будет. Вернувшись в родительский дом, Чашечников рассуждал о лживости и изменчивости нынешнего мира, в котором «сместились года и эпохи», приведя к тому, что «новое – в старом, а в новом – старьё». Всё смешалось в жизни людей и в умах. Пожалуй, лишь напластование истории в народной памяти не давали людям безоглядно бросится в омут страстей:
Как раньше от веры в Исуса не стали Легко отрекаться, так нынче в избе Висят на заборке Столыпин и Сталин – Два разных предтечи в народной судьбе.
Да и сами люди вокруг жили «как на кладбище здравого смысла, \ Где правда и кривда сошлись на парад». Однако поэт всё чаще вспоминал о малой родине. Там «правда и кривда», но в столице кривда сплошь. А на родине « дороги санные, \ Голубые кедрачи». Всё просто и ясно. Чашечников готов был сорваться, помчаться в родную Воскресенку, в город юности Тару, в шумящий «город зелёный \ у могучей реки Иртыша» – Омск. Для себя он давно решил, почему рвётся в Сибирь: «Душу там оставил я!» Но вместо радостных расспросов Воскресенка «свинцово молчит», а сват, опрокинув стопку, заявил: «Москва виновата. И ты виноват». Туманное существование умирающей деревни, вместе с которой истлевало его далёкое детство. Если в прежних стихах поэт писал «Я не люблю людей без корневища», то в поэме «Времена и сроки» старик напутствовал ему:
Спокойно поезжай: здесь нет твоих корней – И деды, и дядья навечно под крестами, Не ты один, кому грустить остаток дней И грезить вдалеке родимыми местами.
Жестоко и правдиво, вот и сам поэт констатировал:
....Мой дом теперь не здесь, Свалился лес родни, сгноило корни время. А что же есть? Москва. Россия. Совесть есть. Есть память прошлых лет и есть раздумий бремя.
И кажется, «мы, оглядываясь, видим лишь руины», говоря словами старого раба из стихотворения Бродского. Так же радостно, как в Воскресенку, мчался поэт к друзьям в Тару, хотел повидать своего литературного наставника, поэта, журналиста, фронтовика Якова Горчакова, друга юности Михаила Белозёрова и многих-многих других. Читая одно из стихотворений поэта, мы узнаём, как растерянно и оглушено он встретил в Таре страшную весть: «умер Яша Горчаков. \ Теперь его душа в пределах рая». Неприветлив и город Омск, куда Чашечников «шел по жизни сквозь заносы». Он лишь брёл «тихо» и «бесцельно», «Повесив седую повинную буйную голову». Искал потерянную юность и начинал задумываться, где живут его дети, о некоторых из которых Чашечников явно не знал никогда: «И каждая девочка, старше пятнадцати лет, \ Мне кажется в Омске моею единственной дочерью». А в итоге восклицал: «Ах, сердце моё! Что мы в жизни с тобой наворочали!». Возвращение означало понимание. В определённом смысле эта строка – аллюзия к «Чёрному человеку» Сергея Есенина, вольная или невольная. Воскресшее в памяти беззаботное прошлое – вот «чёрный человек» Чашечникова. А за точкой далёкое эхо вышептывает есенинское: «Никого со мной нет. \ Я один... \ И разбитое зеркало...».
Москва виновата. И ты виноват.
В стихах Чашечникова величественная природа соседствует с неустроенностью судьбы деревни. Вроде бы: «покосный запах» и «кукушкин плач». Всё пастельно, легко, но вдруг тон меняется и читателю подставляется разваливающаяся деревня, заросшее подворье:
В село из-за реки плывёт покосный запах. Парит кукушкин плач на крыльях тишины. Осевшая изба глядит, глядит на запад, – Напрасно ждёт она хозяина с войны.
С горечью поэт рассуждал о том, что было бы, вернись хозяин с войны:
Пью горечь жухлых трав, хмелея, не пьянею, Задумчиво брожу заросшею межой. Родимая земля! Что бы случилось с нею, Когда бы не лежал солдат в земле чужой?!
Эти стихи не только о послевоенном, тихом и выедающем душ ужасе, а о нас сегодняшних. Почему люди разъезжаются и сёла приходят в запустение? Почему зарастают палисады? Здоровые мужики погибли на фронте? Нет же, они сидят перед компьютерами и играют в «Танчики». Люди измельчали. Цивилизация душит их: «Стоит средь лесов и полей многоярусный дом, \ Стоит средь деревни, где сущность деревни забыта». Сытый достаток нашего времени Чашечников безжалостно препарировал, показав, чего стоит эгоизм:
Глядишь, живёт – не дом, а чаша, Но справное житьё-бытьё Позаслонило слово «наше» И снова выползло – «моё»!
Это страшное «моё» звучит в его стихах предупредительным рефреном:
Государство, рассуждаю – наше. Печь вот эта, стало быть, – моя И моя в печи из гречи каша. А тайга за окнами – ничья? Оттого-то волокут и тащат И жирует, множится жульё, Что в ничьё оборотилось «наше». – Раз ничьё, сам Бог велел – моё!..
Будучи человеком культуры, он часто общался с чиновниками, нуворишами и теми, кто норовит именовать себя новой интеллигенцией. Последние, к слову, самые страшные – жуткие «бандерлоги», уверенные, что именно они – культурная прослойка. Всех их поэт обличал в привычной, безжалостной манере:
Непотопляемый, упругий, Усвоивший почём почёт – Саму поэзию в прислуги Пристроил за народный счёт. Чтобы, приплясывая, пела Под свинг мажорная строка, Чтоб ублажала только тело, А ум – не трогала пока.
Это они – кромсатели культуры обосновались в городах, забыли простую истину – народу «...не прожить без двуединства, \ Без братства города с селом». Спасение же таится в самой деревне. Чашечников описал период посевной, когда типичный сельский мужичок вдруг решился выйти в поле, надев белую навыпуск рубаху и «сотворив земной поклон», а после «добавил: – С Богом, – он, \ Хотя навряд ли верил в Бога». Это следование полузабытым традициям, живущим в потаённых уголках народной (генетической?) памяти поразило и самого мужичка и поэта, который одновременно радовался происходящему и не верил до конца, что новый росток настоящего пробился через года и века. Житель села, человек от земли, шёл по полю, которое помнило его пращуров, в рубахах навыпуск, с горстями пшеницы, и засевал его. А мы вымарываем из своей памяти и души былое. В этом поэту виделась трагедия. Он предрекал пожар: «Клён сгорел. Рябина догорает. \ Впереди – и Родине гореть…». Пламя раздувает каждый из нас, мир меняется необратимо, в нём «Коварство правит и металл». А на просторах России забытые всеми сёла ждут, пока проснётся народная память: «В урёме загорской домов одичавшая горстка \ Над полюшком белым белесые стелет дымы». Образ дома крайне важен для Чашечникова. Дом для него традиционно – русский мир, Россия и вписанная в неё малая родина на берегу реки Иртыш. Обязательно нужна река. Без неё никак, ведь тайга, река и память – три кита творчества Чашечникова. В молодости поэт «...мечтал построить дом: \ В конце села, за кузней, над прудом», однако, в годы зрелости привык к горемычной судьбе поэта, у которого нет своего дома, который шел по России и по творческому пути, набивая шишки, а каждый приступ боли отзывался новыми стихами.
…А дом с рябиной – будет, как помру, К нему слетятся птахи по утру И прощебечут песенку о том, Как я при жизни – не построил дом.
Поэт понимал, что народ без деревни не выживет, ведь «Сильна Россия и спокойна \ Пока крестьянин в поле есть». И пока вокруг слагали оды политикам и нуворишам, он писал «Оду крестьянским рукам». Чашечников не сводил рассказ о деревне к монохромному представлению белого и чёрного. В описываемой им деревне, как и в реальной жизни, все цвета и полутона. Здесь и пьют и любят и страдают. Предают и каются, наивно верят в лучшее, но ждут худшего.
А пьют в Сибири здорово, Размашисто, по-русски! В пивнушках, под заборами, С закуской, без закуски. От слабости, от гордости, С друзьями и без оных, Глуша обиды-горести Вином и самогоном.
Обсуждение главных тем и животрепещущих вопросов ведётся за столом. Этакое пьяное сельское вече перемалывает одну новость за другой:
Их мозг сверлит отчаянно Иной вопрос, признаться: Случайно, не случайно ли Глупеет нынче нация. Случайно, не случайно ли, Нахально иль законно, Свой лик несут начальники В народ, аки икону?
Селяне у Чашечникова не глупы, как это показано у некоторых поэтов, не мудры, а по-детски наивны. Они такие же, как он, точнее он – такой же, как они. Селяне спрашивают у городского жителя будто у светоча знания, не понимая, что он ни о чём новом им не расскажет. Отвечая на вопрос, чего теперь ждать, он сообщал: «– Не ведаю, \ Но будет худо, братцы!». Предощущение грядущего пожара не оставляло. А иначе и не может быть, ведь по всей стране «…Стоят обелиски, как надолбы, \ Пред новою сечей большой». Чашечников постоянно ждал слома, новых испытаний, не привыкший жить спокойно и мирно, уверенный, что в спину вонзится нож и понимающий – нужно успеть высказаться. Россия в представлении поэта – страна, «которая вечно кого-то и что-то мучительно ждёт. При этом всё в мире не случайно, всему есть своё место в божием замысле. Даже листья на деревьях нужны «Чтобы присел усталый путник в тень», добро и зло тесно сплетены. «Зарю предвещая, кричат петухи в полумгле» и кажется, что добро победило, «Но вороны взмыли в ненастное плоское небо». Быть может, и Россия несёт свой крест, проходит своим путём. Однако, небо над Россией родное для поэтов и птиц – перелётных, парящих под облаками и за облаками, витающих в облаках. «Не всё то небо, что у нас в России, \ Но, птицы, ваша родина – у нас!». Чашечников и сам как та птица, улетел, чтобы вновь и вновь возвращаться на родину, пусть и в воспоминаниях.
Я выпустил все радости на волю
Осень – пора увядания и в последние годы жизни поэт чувствовал, что осень его жизни заканчивается, «отцветает душа». Всё больше сильных, исповедальных стихотворений выходило из-под пера Чашечникова, но «когда деревья осенью цветут – \ Они цветут обычно перед смертью». Когда Чашечникову было уже под пятьдесят, он окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. А.М. Горького, однако к этому времени уже был состоявшимся поэтом и гражданином, имел своё мнение по самым разнообразным вопросам, а об истории России, частности о революционных событиях семнадцатого, по словам Михаила Сильвановича, обладал энциклопедическими знаниями. Поэт много в жизни натворил. Пил, «куролесил», и сейчас, когда Чашечникова активно ругают за эгоизм, тяжелый характер, стоит вернуться к стихам поэта, чтобы понять, что он был сам себе безжалостным судьёй. Михаил Сильванович писал: «Надо прочесть и перечесть все им написанное, и ответ придет сам собой – это типичная жизнь таланта, умещенная в один мотив, в одну песню, в которой ни строчки, ни слова нельзя перепеть иначе». Пожалуй, лучше, чем Сильванович, о Леониде Чашечникове не писал никто. И не напишет, ведь он на протяжении всей жизни был лучшим другом поэта и прекрасно понимал, чем жил Чашечников, во что верил и к чему стремился. Выслушивая очередную порцию упрёков в адрес покойного друга, Михаил Иванович отвечал, что Чашечников «тремя инфарктами с перерывами в несколько лет заплатил за все, что выпало ему по судьбе». Всякая жизнь для человека – дорога. Путь от младенчества до старости, за которой маячит неизбежное. Нередко в стихах Чашечникова встречаются рассуждения о дороге и жизненном сроке, отмеренном поэту Господом.
Над бесконечностью дороги Трепещет алый стяг зари – И лик Христа на стяге этом – То правды свет и жизни цвет! Для православного поэта Иного не было и нет.
Он не жалел себя, стремясь пройти по достойно, оставив после себя сильные, честные строки. И пусть люди, не понимающие внутреннюю кухню литературного творчества, усмехаются: «ну да, «садил» сердце, вписывая строчки в блокнот...». Но читая «Вчера, над строчкой среди ночи, \ Зажало сердце – хоть кричи» веришь поэту, ведь именно такое, самосжигающее бдение над стихами присуще не просо поэтам, а настоящим «демиургам языка». О таких писал Санкт-Петербургский поэт Игорь Царёв:
...Но кто бы знал, какой ценой Им достается почерк легкий, И сколько никотина в легких, И сколько боли теменной, Как прогорая до трухи В стакане копятся окурки, Как засыпают демиурги, Упав лицом в свои стихи.
Чем не портрет поэта? Друг и соратник Чашечникова, Михаил Сильванович в предисловии к крайней, посмертной книге друга «Цветы и тернии любви» писал: «Сердце разорвалось во сне. Смерть оказалась легче жизни, в которой он маялся и слишком долго был одинок – под конец остался в своей однокомнатной квартирке вдвоем с котом Шуркой». Стихи и проза – вот то богатство, выжимка душевных терзаний, путевые заметки идущего по стезе пророка, что осталось нам в наследство от Леонида Чашечникова. Мы – страна крайностей «У нас ведь как: молитва или мат» и Чашечников прекрасно понимал русскую душу, будучи предельно откровенным. Он рассказал о себе, но рассказал так, что каждый может задуматься и найти ответы на множество терзающих нас вопросов. «Когда человек ушел, – писал Михаил Сильванович, – ничто уже не может ни убавить, ни прибавить к его достоинствам и недостаткам, если, конечно, полностью исключить лжесвидетельство. Но можно бесконечно итожить крупицы опыта, оставшегося от общения с ним». Впрочем, Чашечников не ушел, он растворился в своём бессмертном народе, как и мечтал. Финал для настоящего демиурга. |
Комментарии (0) | |