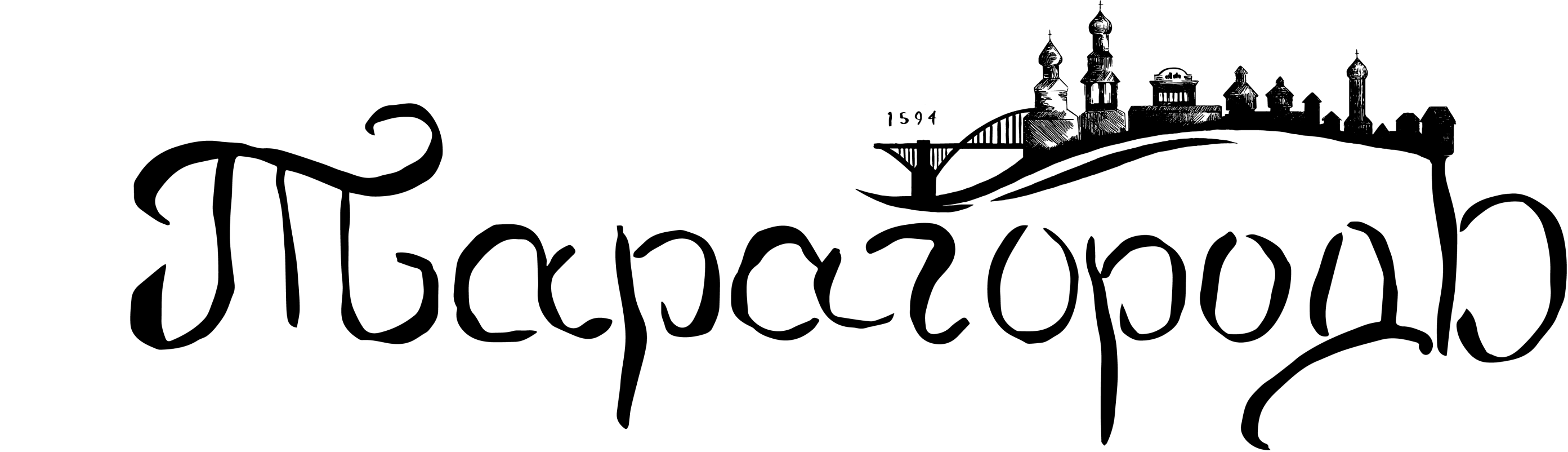Ольга Алфёрова. Аннотация к статье.
Среди расстрелянных в Таре 2 апреля 1938 г. был Фёдор Ефремович Машинский. В Книге памяти место его расстрела не указано, но оно точно известно благодаря его сыну, который поделился своими воспоминаниям с журналистом Вениамином Шаховым после получения свидетельства о смерти отца 15 декабря 1989 года.
Более 50 лет государственные органы обманывали родственников погибших, охраняя тайну происходивших в стране расстрелов. «Десять лет без права переписки» – первая большая ложь, в которую многие тарчане очень хотели верить, несмотря на слухи, бродившие по городу.
Даже после хрущевской реабилитации информация о судьбах расстрелянных оставалась под запретом. С 1955 по 1962 год органы ЗАГС выдавали родственникам расстрелянных свидетельства о смерти, в которых указывались вымышленные даты и причины смерти, а с 1963-го – настоящие даты расстрела, однако вместо причины смерти ставился прочерк.
И только осенью 1989 года обращавшимся в Тарский ЗАГС начали выдавать свидетельства о смерти близких, где в графе «причина смерти» значилось «расстрел», а в графе «место смерти» – «г. Тара».
Вениамин Шахов – «Ожидание истины» (рассказ-быль)
Такие встречи не забываются. В кабинет вошёл пожилой человек среднего роста, худощавый. Извинившись, что вынужден задержать меня в обеденное время, он представился:
– Трофим Фёдорович Машинский, – и взглянул на меня поблекшими старческими глазами, словно спрашивая, не знаю ли я его: – Прошу выслушать меня...
Я поздоровался и сказал ему, что моя прямая обязанность – выслушивать любого, кто обратится в газету.
Он замотал головой, давая понять, что ровным счётом ничего не понял, как если бы мы разговаривали с ним на разных языках.
– Я плохо слышу. Контузия военная только сейчас сказалась, – пояснил он и зачастил, словно боясь, что я немедленно покину кабинет. – Мне надо время. Это не короткая беседа. Но я прошу вас выслушать меня.
Я успокоил его, попросил снять пальто (в кабинете было довольно жарко), усадил на стул рядом с собой и приготовился выслушать посетителя. Он долго молчал, видимо, собирался с мыслями. Желваки бегали по морщинистому лицу, руки беспокойно ёрзали по коленям, он не знал, куда их деть.
– Зыряновские мы, из крестьян, – начал он. – Отца звали Фёдор Ефремович Машинский, мать – Степанидой Григорьевной. До революции и после неё отец крестьянствовал на своём клочке земли. Нас было в семье одиннадцать братьев и сестёр. По нынешним временам, вроде бы как, семья огромная, а тогда такие семьи были сплошь да рядом.
Первого брата Зосима мы потеряли в гражданскую войну. Он «служил» у колчаковцев в тюремной охране. Подпольщики готовили побег партии арестованных большевиков. Зосим был в той подпольной группе. Кто-то выдал: Зосима арестовали, и по постановлению военного трибунала он был расстрелян.
После гражданской войны отец и мы все, братья, продолжали работать на земле. А когда образовался колхоз, всем гамузом в него и вступили. То время я хорошо помню. Хорошее было время. И хоть трудно было, всё-таки жили весело, работали от души.
В 35-м году подошёл срок моей службы в Красной Армии. Служил в Монголии. Окончание службы совпало с Халхин-Гольскими событиями. Однако в боях не участвовал, наша танковая часть стояла в резерве.
В начале 38-го года вернулся домой. 28 февраля 1938 года (я этот день хорошо запомнил), не помню только на пятый или на шестой день после моего возвращения домой, подъехал к нашему дому милиционер на розвальнях с коробом. Зашёл в дом. Велел отцу собираться.
– Зачем? – удивился отец. – Да и потом, надо в правление сообщить, я ведь сторожем работаю, понадеются, никого не поставят.
– Не твоё дело, – грубо прервал его милиционер. – Собирайся живо.
Мать – в слезы. Я понять ничего не могу, что мог натворить сторож. Подумал, может, кто украл что-нибудь. Успокоил себя и мать: выяснится всё, и отпустят отца.
Всей семьей вышли проводить отца. Пока шёл до подводы, он тоже нас успокаивал, мол, недоразумение какое-то вышло. Не знали мы тогда, что видим его в последний раз. Мать, было, бросилась обнять его на прощанье, но милиционер оттолкнул её...
Мой собеседник умолк, полез в карман за платком. Молчал и я. Надо же: столько лет прошло, а боль человеческая не утихает. Через некоторое время Трофим Фёдорович справился с собой и продолжил свой рассказ.
– Прошёл день, второй, третий. Об отце никаких известий. Ходим все как потерянные. Мать места себе не находит. Вечером, крадучись, сосед записку от отца передал. Просил он сапоги передать и ещё сообщал, что никаких пока обвинений ему не предъявлено.
На следующий день я поехал в Тару. Около тюрьмы народу немало с узелками, все, как и я. Кое-как пробился к окошечку. Так и так, мол, надо сапоги передать отцу, и увидеть его хочется. Сапоги у меня взяли, а свидание не разрешили.
С тех пор ни слуху ни духу про отца. К нам отношение резко изменилось. Говорили открыто, как плевки в лицо: «Семья врага народа». Попали мы, видно, в те самые печально знаменитые ЧСИР (члены семьи изменника Родины). Нас сторонились при встречах, не поднимали глаза. Тяжело было. Я уехал в Ложниково… Там и женился. Работал в колхозе шофёром на полуторке...
Трофим Фёдорович вновь прервался. Встал, походил по кабинету, сел, долго собирался с мыслями. Потом продолжил:
– Вскоре началась война. Все мы пятеро братьев в первый же день и ушли на неё. Конечно, в разные части попали. Оказался я на Волховском фронте под Ленинградом в матушке-пехоте. Жуткое, скажу, было время. Почти ежедневно бои. Сколько полегло наших в тех болотах под Ленинградом – видимо-невидимо. И есть иногда нечего было, и нечем стрелять. А я живой и невредимый, даже не зацепило ни разу. Так, видно, вышло на роду мне. Кто-то из начальства вскоре, видно, дознался, что я танкист. Послали в г. Горький на переподготовку на танк Т-34. А оттуда прямым ходом на Орловско-Курскую дугу угодил. Так и доехал со своей 111-й танковой бригадой потом с боями до Берлина.
Что меня толкнуло, не знаю, но решил я написать письмо самому Клименту Ефремовичу Ворошилову. Было это вскоре после Орловско-Курской дуги. Всё описал про отца, про арест его злополучный, про семью нашу, пятерых братьев, что не щадя живота своего, супротив фашистов сражаются. Как Христа Спасителя я умолял и просил его разобраться по справедливости.
Ответа долго не было. Мы уже в Прибалтике воевали. Однажды спали в землянке, будит меня дневальный: вставай, мол, и дуй к командиру дивизии. Прибежал я, отдышаться не могу, однако честь по чести доложился. Так, мол, и так – старший сержант Машинский по вашему приказанию прибыл.
– Не ко мне, – смеется командир, – в особый отдел, сержант, топай.
В особом отделе вручили мне конверт. Я сходу разорвал его и влип в бумагу. А там такое, что сердце от радости запрыгало и зубы от волнения стучать начали. Отвечает мне Ворошилов (понятно, не сам, канцелярия его): отец, мол, ваш, Фёдор Ефремович Машинский, досрочно освобождён в конце 1942 года.
Не помню, как выскочил я, как к себе в подразделение пришёл. Тут же сел письмо матери и братьям писать. Всё описал, да только вскоре сомнение взяло. Как, думаю, так: год прошёл, как отец на свободе, а домой не заявился. Потом подумал, может, на фронт сразу ушёл. Опять же возраст неподходящий. За шестьдесят ему в те годы было.
Не знал я тогда, что Ворошилов (подпись его стояла под ответом) просто-напросто обманул меня. Отца в то время уже давно в живых не было...
Трофим Фёдорович дрожащей рукой достал из внутреннею кармана пиджака бумагу. Развернул, молча протянул мне.
Это было «Свидетельство о смерти». Выдано оно было только что, 15 декабря 1989 года, как говорится, ещё чернила не обсохли. Печальная бумага эта сообщала бесстрастно, что Машинский Фёдор Ефремович умер 2 апреля 1938 года. В графе «Причина смерти» значилось «Расстрел». «Место смерти» – «г. Тара».
– Прав был ваш корреспондент, – заговорил глухо Трофим Фёдорович, – Мотренко, кажется, что расстреливали в 37–38-х годах тут, в Таре. Теперь-то уж это точно. Только вот не знаю, где могила отца, может, там, где вы писали, а, может, в другом месте...
– Вы уж извините, время у вас отнял, – произнес он и встал, намереваясь одеваться. – Душу отвёл. Ведь, почитай, 50 с лишним лет не говорил я об отце с другими людьми.
– А с Вами-то что было дальше? Где войну закончили? Живы ли братья остались? – как можно громче спросил я.
– Да что я? Обо мне разговор другой, – мой собеседник остановился, потом вновь присел на краешек стула.
– Могу рассказать и о себе. Прошёл я с боями Прибалтику, Польшу. Дошел до Берлина. Не знал я тогда, что все мои братья тоже в Берлине. Встретиться не довелось, а вот поди ж ты, в самое логово все Машинские угодили.
Вернулись в Тару (мать уже здесь жила), все в орденах и медалях. Младший брат, Афанасий, (как и я, танкист) насчёт наград нас всех обошёл: два ордена Отечественной войны, два ордена Славы, орден Красной Звезды и медалей не счесть. А вот старшему Фёдору не повезло, он вскоре скончался от ран (в войну сапером был).
Стали мы шофёрами в автороте работать. Об отце, конечно, помнили, да и нам частенько об этом напоминали.
Начальником автороты был Франц Антонович Цулевич. Хороший человек. Ценил людей по труду, не по языку. Нашёлся один прохвост, написал донос на нас. Мол, кого вы у себя пригрели – детей врагов народа. Вызвал меня Цулевич, кляузу показывает, спрашивает: правда ли, что отца арестовали. Обсказал я ему всё, как было. Он эту кляузу при мне разорвал и в корзину бросил. Крепко выразился в адрес доносчика и говорит мне, мол, работайте, как работали, в обиду не дам.
В автохозяйстве в этом я протрубил 24 года. Братья отсюда и на пенсию ушли. А меня на старости лет дурь взяла. Друг уговорил на север Тюменской области уехать. Видите ли, захотел своими руками нефть пощупать. Так пять лет и пробыл машинистом на буровой. Оттуда и на пенсию пошел. Потом в родной город потянуло.
Теперь из одиннадцати братьев и сестёр нас в живых осталось трое: я, младший брат Афанасий и сестра Валентина, где-то в Симферополе живёт. Много внучат и правнуков, так что род наш, Машинских, продолжается, хотя его на корню хотели подрезать, да ничего не вышло, живучие мы...
Мой собеседник говорил теперь уже спокойно. Видать, выговорился, утешил душу. Однако, уже одевшись и попрощавшись, он опять вспомнил:
– Вплоть до этой бумаги, – Трофим Фёдорович прижал руку к карману, – я не верил в смерть отца. Жил каким-то ожиданием. Он всё время оставался для нас 66-летним, таким, каким мы его видели в последний раз 28 февраля 1938 года. Потом тот ответ Ворошилова. И рассказ матери. В конце войны это было. Мать жила в г. Таре, по ул. Пролетарской, 44. Зашёл однажды в хату незнакомый седой старик и поведал ей о том, что, якобы, видел нашего отца на станции Татарка. Он был сильно болен и слаб. Было ли это на самом деле, теперь трудно сказать. Видимо, и мать наша жила ожиданием истины.
И ещё. Всю жизнь свою мы прожили под каким-то страхом. Из нас никто не имел права вступить в комсомол, не говоря о партии. Я верю в перестройку, в Михаила Сергеевича Горбачёва – это он позволил нам поднять голову и сказать, что жизнь свою мы прожили не зря. И, если судить по большому счёту, некоторым коммунистам надо сдать сегодня партийные билеты. Они знают, о ком я говорю. Оставьте эти слова, если будете писать...
Оставляю. Ибо живы и ещё благоденствуют те, кто строил свою карьеру на костях невинно репрессированных людей, кто в поте лица своего доказывал свою активность в борьбе с врагами народа, а теперь затаился, выжидает и мечтает о том, чтобы вернуть то страшное время. Есть и другие – помоложе, кому перестройка, что нож в сердце, она не дает им развернуть во всю привычную ширь свои неукротимые командно-административные притязания, когда простому человеку вновь уготована роль винтика, которому при случае можно безнаказанно свернуть голову.
Но я вспоминаю и о других. О том же Цулевиче, который в трудную минуту помог людям, о Горбачёве, возглавившем нелегкую борьбу за перестройку, демократизацию и гласность в нашем обществе, возродившем в нашей памяти имена миллионов невинно загубленных душ. Я вспоминаю о других известных и неизвестных людях, что бьются сейчас за человеческий облик социализма.
Что будет дальше – никто не знает. Верится, однако, что ожидание истины не будет напрасным. Это истина придет. Она уже пришла. Важно дать ей закрепиться, сделать ход перестройки необратимым.
Автор – Вениамин Шахов
Статья опубликована в газете «Ленинский путь» от 12 января 1990 года